Женитьба белугина табакерка отзывы
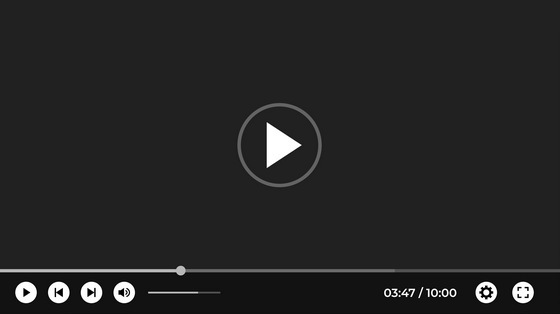
За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы… настоящей, шумной славы… Закрывает лицо руками. Эти книги не завершили круга его возможных мемуаров о дореволюционном времени. Последние комментарии.
Дужников был убеждён: актёрскому делу лучше всего учат в Щукинском театральном. Он упорно штурмовал его целых четыре раза. Получив от ворот поворот в первый год, решил закончить учебное заведение в родном городе — Саранское училище культуры. Зачем, мол, время терять? Но и в этот раз оказался в пролёте, в «Щуку» его снова не взяли.
Пришлось поступить в московский институт современного искусства, помог акт государственной историко культурной экспертизы. Чтобы как-то выживать в ожидании нового сезона вступительных экзаменов, Дужников устроился работать — был и грузчиком, и дворником, и официантом, и охранником. Бывало, жил на вокзале, иногда просился на ночлег к друзьям… К счастью, мучения оказались не напрасны! С четвёртой попытки двери заветного театрального вуза всё же открылись, Стас добился того, чего так долго хотел!
Карьеру Дужников начинал в Театре им. Гоголя, потом перешёл в театр под руководством А. Джигарханяна, следующим местом работы стал МХТ Чехова — здесь актёр служит до сих пор. И именно в этом театре Станиславу посчастливилось выходить на сцену вместе со своей женой…. Но приглядеться друг к другу получилось лишь спустя полтора года на одной из театральных премий.
Длинноногая блондинка, талантливая ученица Олега Табакова в тот день была в номинантах, но приза не получила. Стараясь не показать друзьям, что расстроилась, после церемонии она пошла танцевать, пригласив на белый танец давнего знакомого. Стас оказался отзывчивым кавалером — с ним Кристина забыла про все неудачи.
Они стали встречаться. Девушка раздумывала недолго: после некоторого SMS-кокетства ответила согласием. От свадебного торжества решили отказаться: шумные празднества, на которых Кристина подрабатывала тамадой, надоели ей ещё в студенчестве.
Влюблённые ограничились церемонией в загсе и ужином с друзьями в ресторане. Спустя год у пары родилась дочь, которой выбрали замысловатое имя Устинья. Худрук театра Олег Табаков помог своим подопечным купить в Москве трёхкомнатную квартиру. Всё складывалось замечательно, даже карьера у них обоих шла в гору: кроме театральных ролей появились и роли в кино.
Первый киноуспех к Стасу пришёл после выхода на экраны армейского комедийного сериала «ДМБ». Семейной жизни супруги радовались семь лет, пока однажды не ошарашили всех новостью о разводе. О причинах решили не распространяться. Домыслы были разные, вплоть до того, что супруги не вынесли конкуренции в профессии.
Как бы то ни было, Стас с Кристиной остались близкими людьми — продолжают вместе работать и воспитывают дочь. Галантный кавалер Дужников недолго оставался без женского внимания. Спустя год рядом со Стасом стали замечать одну интересную особу. Поговаривают, что его новая пассия — профессиональный дизайнер. Недавно в одном из московских ресторанов пара участвовала в эффектной церемонии бракосочетания по старинному балийскому обычаю. Действо проходило в сооружённом из цветов алтаре в ароматах благовоний, звучала восточная музыка.
Частым прибежищем царя и его придворных стала гостиница «Австерия» в некоторых источниках «Остерия». Это первое в Петербурге питейное заведение открыл в году датчанин Иоганн Фельтен. Помимо выпивки подавали закуски, можно было купить табак, поиграть в карты. Отобедать у Фельтена любили и придворная знать, и чиновники, корабельные мастера, купцы. Для солдат, матросов, рабочего люда заведение, понятное дело, не предназначалось.
Случалось ли вам терять на пьянках дорогие сердцу вещи, телефоны или деньжата? Это ничего, ведь как-то раз вечером 6 ноября года князь Меншиков проснулся в Австерии без своего ордена Андрея Первозванного.
Светлейший объявил пропажу в розыск, пообещал нашедшему рублей. Крест и причитающийся ему бриллиант нашлись по отдельности — камушек уже пытались продать, всё же дело получило счастливый конец: Меншиков собрал обратно свой орден, а денежное вознаграждение разделил между участниками поисков. Приближённые Петра в своих домах тоже устраивали приёмы разной величины. Заглянем на застолье — на пиршествах подавались блюда в три смены: холодные закуски, жаркое, затем супы.
У Зотова, например, закусывали финиками, имбирём, солеными огурцами, зелёным горохом и сырой морковью. Меншиков отличался более изысканным вкусом: за его столом подавали лимон с сахаром, венецианские конфеты, инжир, финики, изюм.
Данные о количестве выпитого спиртного доходят до нас в воспоминаниях заморских посланников.

Иностранцы то и дело жалуются на «тяжкие испытания», которые им приходилось сносить при дворе Петра. Так ганноверскому резиденту Веберу предлагалось «в два приёма» выпить 12 бокалов венгерского вина и полтора литра водки. Нереально, скажете вы? Действительно, без печальных последствий не обходилось. На одном из застолий князю Луке Долгорукому налили уж очень много вина.
Тот подумал, что сможет в тайне от государя вылить лишнее из своего кубка, но не тут то было: Пётр за такие дела повелел семидесятилетнему трезвеннику выпить стакан водки огромных размеров. Дальше не очень весело: престарелый князь после выпитого упал в обморок и в течение часа скончался. Потчевание провинившегося гостя кубком Большого Орла», Н. Вполне возможно, что в этой истории под «стаканом» водки подразумевается кубок Большого орла. Это бокал обычно ёмкостью около 1,5 литров, украшенный изображением двуглавого орла и царских регалий.
Его до краёв наполняли водкой или крепким вином и заставляли осушить проштрафившегося гостя. Заслужить угощение «орлом» можно было, отказавшись от выпивки или оказав слишком большое почтение Петру, который общался со всеми запросто, на равных.
Отсюда и пошла застольная русская традиция наливать штрафную рюмку опоздавшим гостям. Но это всё иностранные послы да старомосковские бояре брюзжат о вреде алкоголя и его печальных последствиях. Для ближайших друзей императора такие гуляния стали образом жизни. Тем более, что достаточно рано, в начале х, Пётр I придал своим попойкам вполне организованную форму: учредил Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор.
Главная цель этой шутовской организации — веселиться, пить и развратничать, причём с грандиозным размахом. Важнейшее правило участников общества — не пропустить ни дня, не напившись вусмерть. У соборян существовала своя иерархия, высшими чинами были «князь-папа» выборная должность и «князь-кесарь» его Пётр назначал сам.
Это такая отсылка к разделению церковной и светской власти. Да и вообще всё устройство Собора, присвоение церковных санов — один сплошной стёб над католической и православной церковью. Вот например, обряд выбора и посвящения в князь-папы.
Трёх кандидатов, выбранных из «архиереев», в отдельной комнате голышом усаживали на стулья со специальными отверстиями в сиденьях. Ответственные лица тоже три человека через эти самые отверстия щупали претендентов на должность за яйца, как бы удостоверяясь, что перед ними лицо мужского пола. Шардаков из фонда этнографического парка истории реки Чусовой.
Гуляли, развлекались и мы, седые люди, пускали в аудиториях бумажных голубей. Нина Михайловна Молева, милейший человек, преподаватель истории искусств, самозабвенно отдававшаяся своему делу, называла нас «мои взрослые дети». Да, да, мы отыгрывали и отгуливали пропущенную юность, молодость, кто и отнятое детство. Среди нас были не только фронтовики, рабочие, крестьяне, были и репрессированные, жертвы сталинских концлагерей.
Они делились с нами «богатым прошлым», открывали глаза на правду. На курсах я не только много общался с курсантами и студентами Литинститута, но и пересмотрел весь тогдашний репертуар в столичных театрах, перечитал рукописи почти всех сокурсников и литинститутовцев, да и сам работал, написал повесть «Звездопад», пяток рассказов, перевёл по подстрочникам несколько произведений сокурсников из других республик.
Счастливые, плодотворные годы. Жаль, что всего их за первую половину жизни выпало лишь два. В город Чусовой мне было возвращаться не очень-то способно. Пообещали квартиру в Перми, и я более года ездил. Спустя восемнадцать лет после войны мы получили долгожданную квартиру, и тогда я запомнил навсегда родившуюся в ту пору поговорку, что жизнь советского человека делится на две половины: до получения квартиры и после получения таковой. Квартира сдана нам была без света, без воды, без газа, с бетонными пробками в трубах и вывороченной плиткой в совмещённом туалете.
Стенки её едва дышали. В ту пору без избы в деревне работать мне было невозможно. Вот тогда-то и свозил меня Борис Никандрович Назаровский в деревню Быковку, и для меня наступили счастливые дни и годы плодотворной работы. Все семейные тяжести легли на жену: в Быковке не было магазина, электричества, всё, начиная от керосина и хлеба, надо было возить и таскать на себе, жену мою в округе прозвали «маленькая баба с большим мешком на спине». От пристани Степаново до деВсю жизнь учился и учусь на писателя.
Сперва ревни Быковка — полтора килописал полурассказы, постепенно овладевая метра. Полями и лесами мы с ещё навыками рассказчика, подступая к этой недавно бегучей женой шли часа очень ёмкой форме литературного жанра, который в русской литературе исходит три и, когда вошли в прохладную, от устного рассказа и доведён гениями когда-то запущенную хозяевами, но нашими до таких совершенств, что мировая обихоженную Марьей Семёновной новеллистика преклонялась и преклоняется избушку, тут она воскрешённо заперед русским рассказом.
И потом, когда я осуществил свое намерение, уехал с семьей в тихую Вологду, где прожил почти одиннадцать лет в доброжелательной творческой среде, которой покровительствовало, проявляя такт и заботу, областное руководство, а раз оно хорошо, с пониманием относилось к нам, то и всякое другое население должно было ему подражать, Быковку не забывал, наезжал туда не раз.
Снится она мне и по сию пору. Всю жизнь учился и учусь на писателя. Сперва писал полурассказы, постепенно овладевая навыками рассказчика, подступая к этой очень ёмкой форме литературного жанра, который в русской литературе исходит от устного рассказа и доведён гениями нашими до таких совершенств, что мировая новеллистика преклонялась и преклоняется перед русским рассказом.
Сомерсет Моэм утверждал, что тот, кто в начале нынешнего века не подражал Чехову, не мог считаться в Англии новеллистом и вообще писателем. Мне удалось написать с пяток рассказов, достойно представляющих этот жанр, и когда я начал овладевать более пространной формой — повестью, также блистательно освоенной русскими классиками, то первые мои повести тоже были рассказами: «Стародуб», «Звездопад», но более длинными или состоящими из главок-рассказов — «Перевал».
Что движет сознанием художника, прежде всего музыканта, живописца, поэта? Оно, оно, нами не отгаданное, простирается дальше нас, достигает какихто может и космических далей и тайн. Тайна и движет творчеством, потому-то все великие гении земли верили в Бога иль вступали с Ним, как Лев Толстой, в сложные, противоречивые отношения.
Бог есть Портрет писателя В. Дух, Он всегда с нами, даже когда Картина находится в фондах вне нас, Он — свет пресветлый — Третьяковской галереи и есть та боязная тайна, к которой с детства прикоснувшись, человек замирает в себе с почтением к тому, что где-то что-то есть, а когда один остаёшься — оно рядом, оно постоянно оберегает, руководит нами, одаривает, кого звуком, кого словом и всех, всех — любовью к труду, к добру, к созиданию.
Бога скорее и яснее всех чувствуют невинные дети, потому как не знает ещё их маленькое сердце сомнения. Вот хитрованы-большевики и прививали свою веру, как холеру, нам с детского возраста и, отлучив от высшей веры, приблизили нас к низшей, вредной, растлевающей морали, заразили безверьем два или три поколения.
А высшая вера — это всегда трудно. Надо быть чистым помыслами и сердцем, постичь немыслимое, отгадать высший смысл веры, пытаться донести до людей то, что постиг ты с помощью Божьей, даровавшей тебе отблеск небесного света, пения, что зовётся небесным, донести, как высший дар, до других людей…. Вот из зачуханного города Чусового Пермской области, стоящего на одной из красивейших рек Европы, воспетой МаминымСибиряком и ныне погубленной до смерти, из города, откуда родом моя богоданная жена, из города, где прошли наши послевоенные молодые годы и выросли дети, пришли необыкновенно острые и интересные заметки вместе с рисунком мною когда-то построенной избушки.
Первого послевоенного жилья — только у моей избушки не было ни верандочки, ни сенок: не из чего было их изладить, их пристроил следующий хозяин, был он плотник и столяр. А город Чусовой всегда отличался не только склонностью к пьянству, дракам, поножовщине, но и потребностью в созидательном труде на предприятиях металлургии, столь загазованных и вредных, что никакой безыдейный необразованный капиталистический труженик не стал бы на них работать, разнёс бы впрах заводы и канцелярии заводские, а наши рабочие вкалывают да ещё и радуются тому, что заводы не закрылись, и есть возможность заработать на них на кусок хлеба.
Этот городок с крупной узловой станцией, стоящей среди великолепной природы при впадении в реку Чусовую двух красавиц-сестёр, рек Вильвы и Усьвы, где когда-то водилась рыба в изобилии и можно было пить из них воду, всегда отличало какое-то старомодное чувство бескорыстности, дружества и преданности друг к другу — попавшего в беду на реке, в тайге человека здесь никто и никогда не бросал, сосед соседа почитал, здесь я впервые услышал местную поговорку: «не живи сусеками, а живи с соседями».
Завёлся здесь даже человек, предложивший реформу музыкального образования, подвергнув сомнению мировую музыкальную грамоту и всякую гармонию, считая, что. Слишком устарелая и малодоступная система. Сделав новый музыкальный инструмент всего из нескольких клавиш, он изобрёл и изобразил общедоступные знаки записи музыки, пытаясь добиться того, чтобы музыка, как арифметика, была бы доступна всякому ребёнку, любому смертному землянину.
Изобретая новую музсистему, человек этот предложил попутно и новомодную живопись, сам обучился прекрасно писать маслом, акварелью, цветными опилками на стекле, на стали. Замахивался и на всю нашу систему образования, предложил преподавать бесплатно физику и философию, в итоге обучившись, опять же попутно, прекрасно играть на рояле, сочинять музыку.
Он пробовал учиться сразу в двух университетах Москвы, но заболел туберкулёзом, и его отправили домой умирать. Но он своей же методой сам себя и вылечил, ходил по городу раздетый и босиком зимой и летом, покорив экстравагантным видом и поведением самую красивую деваху в городе, так что стали они ходить по городу босиком уже парою…. Но это уж было слишком даже для такого к дарованиям терпеливого города. Гения, как водится на Руси, объявили сумасшедшим и отправили в Пермь.
Родители жены его едва выхватили из чудовищных лап гения чуть не погубленную дочь. Город вздохнул освобождённо.
Родители же гения, простые рабочие, плакали, считая, что на младшего сына напущена порча, и скоро умерли с горя, а неистовый кипящий ум чусовлянина переметнулся на космос и многое там постиг.
А ещё в детской техстанции Чусового, где зимами собирались рыбаки, охотники и шахматисты на «токовище», умельцами был сделан электромузыкальный инструмент задолго до тех, под которые сейчас в дыму и пламени мечутся хрипящие бесы. Инструмент тот свезли на ВДНХ, на какую-то выставку и присвоили.
Здесь могли подковать не только блоху, но и лошадь, починить любой мотор, инструмент. У меня до сих пор хранятся самодельные блёсна и ящичек под них — произведения искусства. Городу Чусовому исполнилось уже 60 лет, и в нём всё ещё дополна водится гениев.
Большая, изнурительная дорога позади. Бойцы из пополнения шли трактами, просёлочными дорогами, лесными тропинками, дружно карабкались на попутные машины, и всё равно это называлось, как в старину, маршем.
Солдаты успели перепачкать новое обмундирование, пропотеть насквозь и начисто съесть харчишки, выданные на дорогу. И всё-таки до передовой добрались. Лежат в логу на щетинистой запылённой траве и прислушиваются; кто озирается при каждом выстреле или разрыве, а кто делает безразличный вид. Разговоры всё больше на одну тему: дадут или нет сегодня поесть? Единодушно решают: должны дать, потому как здесь уже передовая и кормёжка не то, что в запасном полку, и забота о человеке совсем другая.
Они-то знают, что на старшину нужно надеяться, однако и самому плошать не следует. А передовая рядом. Вздрагивает земля от взрывов, хлещут пулемётные очереди, и нет-нет да и вспыхивает суматошная перестрелка. Бегают связисты с катушками, лениво ковыляют беспризорные лошади, урчат машины в логу.
А вот и раненый появился. Спускается в лог, опираясь на палочку. Идёт он в одном ботинке. К раненой ноге поверх бинта прикручена телефонным проводом портянка. Аккуратно свёрнутая обмотка в кармане. Ненужный пока ботинок за шнурок подвешен к стволу винтовки. Табачком богаты? Все разом полезли за кисетами. Но солдат с крупным, чуть рябоватым лицом успел раньше других сунуть свой кисет раненому. Тот неторопливо опустился на землю, поморщился и начал скручивать цигарку. Рябоватый боец с робостью и уважением следил за раненым, хотел о чём-то спросить, но не решался.
Раненый с форсом прикурил от трофейной зажигалки, убрал её в карман и, выпустив клуб дыма, сказал: — Она самая, — и махнул рукой через плечо: — Передок метрах в трёхстах.
Ну я, братцы мои, пойду, а то не ровен час накроют. Вы тут развалились — ни окопчика у вас, ни щелки. Ещё отшибут вторую ногу и придётся мне на карачках до санроты добираться Раненый поковылял дальше.
Боец, тот, что дал ему закурить, провожал раненого взглядом до тех пор, пока тот не скрылся за ближней высотой. Лицо солдата сделалось печальным. Вдруг раздалась команда — все вскочили, поправляя на ходу ремни, попытались выстроиться.
Всем сидеть! И лейтенант, и связист появились как-то неожиданно, словно из-под земли. Ну ничего, думаю, вечерком нам кое-что подбросят, — утешил он и принялся расспрашивать: кто откуда, воевал ли прежде, чем занимался до войны, большая ли семья, и тут же записывал фамилии в блокнот и распределял людей по отделениям.
Рябоватый солдат сразу же попался на глаза лейтенанту. Простоватое лицо солдата с реденькими бровками расплылось в широкой улыбке, а добродушные серые глаза смотрели на лейтенанта так, будто он давнодавно знаком с ним и вот, наконец-то, встретился. Лейтенант не мог не ответить на эту улыбку — столько в ней было доверчивого и дружеского — и внимательней пригляделся к этому солдату. Пилотка, ещё новая, уже успела потерять свою форму и напоминала капустный лист, пряжка ремня сбилась набок, гимнастёрка вся была в мазутных пятнах.
Матвей Савинцев. Я с Алтая. Может, слыхали, деревня Каменушка есть недалеко от Тогула, так из неё. Много деревень у нас в стране. Все сдержанно рассмеялись и сейчас же выжидательно замолкли.
Может, сомнение есть насчёт моего старанья, так для проверки пошлите туда, где работы побольше. Лейтенант подумал ещё и решительно произнёс: — В мой взвод, к связистам! У нас работы всегда бывает много. И попал Савинцев в боевую семью «паутинщиков», как прозвали связистов на фронте.
Покладистый, домовитый характер, готовность прийти каждому на помощь и ненадоедная словоохотливость помогли ему както незаметно сойтись с фронтовиками. Те с первого дня стали попросту звать его Мотей, даром, что был он отцом семейства, да и не маленького.
Уж очень шло ему это имя: и теплота в нём была, и улыбка необидная. Тонкости, которых много в боевой работе телефонистов, давались Матвею туго.
Впрочем, всё в жизни давалось ему с трудом, поэтому он не падал духом, когда у него что-нибудь не получалось. Но уж если он что усваивал, то навсегда. Было дело, ездил он четыре года прицепщиком, дважды учился на курсах, прежде чем ему доверили управлять трактором. И как же удивились связисты, когда им стало известно, что был он знатным трактористом и про него даже в газете писали.
Ну, расспросы, конечно, как да что, а Матвей только отмахивался: — Какой там знатный! Мало сейчас нашего брата в колхозах, вот и стали мы все там знатные. В тихие вечера, когда война как-то сама собой забывалась и душа человеческая тоже сама собой настраивалась на мирный лад, Матвей рассказывал о своей родной Каменушке.
Слушали его с удовольствием. Наносило издали то запахом родных лугов, то девичьей песней, то парным молоком, то дымком бани, в которой так хорошо попариться, придя с пашни. Простая жизнь, обыденные дела вставали в новой красоте. Раньше-то её ни замечать, ни ценить не умели — всё шло само по себе, всё было как надо, и вот Иной раз Матвей доставал фотокарточку из кожаного, должно быть доставшегося по наследству, бумажника, подолгу рассматривал её. На снимке был сам он с неестественно напряжённым лицом, рядом жена с ребёнком на руках, а впереди два мальчика.
У меньшего удивлённо открыт рот, а старший, насупив брови, цепко держит в руках книгу. И второй нынче тоже пойдёт. Одежонку всем надо, катанки, книжки. Заботы-то сколько Пелагее, заботы! Не до чаёв им, в тридцатом поту бьются Вот приезжай после войны в это время к нам — почаёвничаешь. Матвею разъясняли, что есть разница во времени: если здесь, на Украине, вечер, то на Алтае уже ночь и вполне возможно, что колхозницы и балуются чайком после трудового дня.
Не о чем было спорить. Родной край, своя деревня, свой дом всегда и всюду с солдатом — они врастают в его сердце навечно. А война бушевала, и враг катился с Украины к границе. Вроде бы и неповоротливый мужик Савинцев, да и не очень сообразительный, но дело своё исполнял старательно. Рыскал по линии, исправлял порывы, сматывал и разматывал провода, лежал под разрывами и, выковыряв землю из ушей и носа, бежал дальше. Конечно, как и всякий связист, он что-то изобретал, приспосабливался к обстановке — иначе на войне нельзя.
Война — это не только выстрелы, это очень много работы, порой непосильной работы. И побеждает на войне тот, кто умеет работать, кто умеет порой сделать то, что в другое время казалось выше всяких сил. Матвей работал. Он первый стал перерезать нитку связи планкой карабина, зачищать провод зубами, обходиться в случае нужды без заземления. Но на фронте все изобретают, каждый час, каждую минуту изобретают и этому никто не удивляется.
Главное, чтоб польза была. Связист, к примеру, исправляет линию чаще всего один, телефонисты клянут его, ругают, а когда провода соединят — тут же забудут о связисте и дела им нет до того, что он там придумал, как изловчился под огнём наладить линию. Пожалуй, не было на войне более неблагодарной и хлопотной работы, чем работа связиста. Можно ручаться, что матюков и осколков связисты получили больше, чем наград. Но война есть война. На ней всё равно найдётся такое место, где человек окажется виден во весь рост.
Однажды часть Матвея Савинцева попала под деревню Михайловку. На свете таких Михайловок, наверное, сотни, и едва ли эта была какойнибудь особенной. Обыкновенная украинская деревня с белёными хатами, на хатах гнёзда аистов, возле хат богатые огороды и сады, на улицах колодцы с журавлями. И расположена деревня по-обычному — поближе к ручью, на пологом склоне. За деревней — возвышенность, удобная для обороны. Немцы и уцепились за неё.
Заняв с ходу Михайловку, пехотинцы атаковали высоту, но атака не удалась. Подтянули свои огневые средства пехотинцы, пальнули — и это не помогло. День, второй прошёл — ни с места. Встречались пехотинцам горы, перевалы и широкие реки. Одолевали их, шли без задержек, а тут из-за небольшого холмика такие дела разгорелись, что дым коромыслом. Иному Эльбрусу, может, во веки вечные не видать такой страсти и не удостоиться такого внимания, какое выпало на долю этого бугорка.
И большие, и маленькие командиры обвели его на карте и красными, и синими кружочками. Подтянулись к Михайловке миномётчики, артиллерия, танки. Высоту измолотили так, что до сих пор, наверное, пахать её из-за металла невозможно. Но нашла коса на камень.
Не отступает противник и, мало того, норовит атаковать. Ночью фашисты заняли два дома на краю деревни. Сапёры, что квартировали в них, еле ноги унесли. Эти два дома сапёрный начальник, пожалуй, и по сей день помнит. Утром ему же вместе с его «орлами» пришлось их отбивать. Одним сапёрам, конечно, не справиться было бы, и дали им в поддержку артиллерию. Тот же лейтенант, что встречал солдат из пополнения, отправился с разведчиком и связистом к сапёрам, чтобы завтра корректировать огонь и держать непосредственную связь с теми, кто будет атаковать высоту.
В темноте, кое-где рассекаемой струями трассирующих пуль, связисты потянули линию на передовую. Не пройдёшь Надо вниз, по ручью, там есть бетонная труба, что-то вроде мостика, через неё и пойдём.
Утром закурился над землёй какой-то робкий, застенчивый туман и быстро заполз в лога, пал тихою росой на траву. И роса была какая-то пугливая. Капли её чуть серебрились и тут же гасли. И всё-таки роса смыла пыль с травы, и когда из-за окоёма, над которым всё ещё не рассеялся дым от вчерашних пожаров, поднялось солнце, — брызнули, рассыпались мелкие искры по полям, и в деревенских садах да в реденьких вётлах, что прижились у ручейка, затянутого ряской, защебетали пичужки, сыпанули трелями соловьи.
Диво дивное! Как они уцелели? Как они не умерли со страха, эти громкоголосые песельники с маленькими сердцами? Поют — и только! Поют как ни в чём не бывало. И солнце, страдное, утомлённое солнце светит так же, как светило в мирные дни над полями — с едва ощутимой ласковостью утром и с ярым зноем к полудню. Страда наступила, страда Но вот справа, далеко за Михайловкой булькнул, как булыжник в тихий омут, миномётный выстрел.
С минуту было тихо, а потом разом рванули прилетевшие с той стороны снаряды, и пошло! Заухало, загудело кругом. Канули, потонули в грохоте птичьи голосишки, и дымом заслонило спокойное, страдное солнце.
Боевой день начался. Трижды бросались в атаку сапёры и трижды с руганью и заполошной пальбой убегали в пыльные подсолнухи. А сапёрный начальник, страдающий одышкой, стрелял для страха из пистолета вверх и крыл их самыми непотребными словами. В конце концов два дома, потерянные сапёрами, остались существовать только на картах и артиллерийских схемах. Сапёрам достались только груды кирпича да погреб со сгнившим срубом.
Передовой пункт артиллеристов перебрался в пехотный батальон. Дела здесь шли пока тоже неважно. После артподготовки пехотинцы по сжатому полю с трудом добрались до половины высоты и залегли. Горячая работа закипела у артиллеристов. Пехота просит подбросить огня туда, подбросить сюда.
Подавить миномётную батарею. Вот и она заглохла. Мешает продвижению закопанный на горе танк — отпустить ему порцию! Уничтожить пулемётную точку!

Крой, артиллерия, разворачивайся, на то ты и бог войны! Оборвалась связь Телефонист Коля Зверев, молодой, вертлявый и, по мнению всех связистов, самый непутёвый паренёк, то и дело нажимая клапан трубки, звал хриплым голосом: «Промежуточная!
Коля ёрзал как на иголках, смотрел на хмурого лейтенанта виноватыми глазами.
Нет никчёмней человека, чем телефонист без связи: он глух, нем и никому не нужен. Но вот, наконец-то, голос запыхавшегося Савинцева: — «Заря», говорите с «Москвой». Вскоре, осыпав комья земли, в проход блиндажа втиснулась мешковатая фигура Матвея. Он вытер пот рукавом и сказал: — Здорово живём!
Ох и даёт фриц прикурить Возле мостика уж несколько человек убито, кое-как в обход проскочил. Матвей помялся, виновато кашлянул и глухо добавил: — Я попутно нёс вам, ребята, перекусить Ни живы, ни мертвы и третий день не евши. Солдатам не впервой, а там ребятёнки, сердешные У разведчика потеплели глаза, он улыбнулся потрескавшимися губами и без осуждения сказал: — Эх ты, Мотя, разудала голова!
Ободрённый тоном разведчика, Матвей достал из кармана горсть белолобых огурчиков и засуетился: — Вот, братцы, покудова заморите маленько червячка. Огурец — штука полезная: в нём и еда, и вода. Если не обед, так воды-то я уж всё одно добуду. Хотел в ручье набрать, а там вода-то — горе, лягушки одни.
Эх, у нас, на Алтае, водичка в ручьях — студёная-студёная В блиндаж вошёл лейтенант. По лицу его струился пот, оставляя грязные потёки. Выслав вместо себя разведчика, он опустился около телефонного аппарата на землю, облегчённо выдохнул: — Ну и жара!.. Как, Савинцев, линия? На промежуточной напарник остался. Лейтенант пристроил на коленях планшетку, разложил на ней карту и вызвал командный пункт, который по телефонному коду именовался «Москвой».
Обстановка такова: пехота добралась до середины высоты, но залегла. Нужно подавить огневые точки противника, мешают они пехоте. Ну и сопровождающего огонька подбросить. Передаю координаты Товарищ пятый!.. Черт бы побрал эту связь, рвётся, когда особенно нужна! Матвея как ветром выдуло из блиндажа. Не чувствуя сростков, царапавших ладонь, он бежал по линии, лавируя между бабками. Ближе к ручью их не было, и Матвей пополз. С той стороны по линии к ручью тоже бежал боец.
Матвей узнал своего напарника. Недалеко от мостика связист, будто споткнувшись, взмахнул руками и упал. И он закричал: — Не шевелись! Не шевелись, лежи! Около упавшего связиста взвилось несколько пыльных струек, и он перестал двигаться. И тех вон ребят у мостика тоже срезал!..
Как всегда в трудную минуту, Матвей стал держать с собой совет. Снайпера посадили. Хитры сволочи! Надо посоображать, а то и связи не исправишь, и на тот свет загремишь! А, это ты, Савинцев? Что там у тебя? Снайпер у трубы кладёт нашего брата.
Напарника вон До зарезу! Ну-к я поползу О чём ты задумался, молодой командир? Многое пережил ты, много видел смертей, сам ходишь рядом со смертью, а всё ещё чувствуешь себя виноватым, когда посылаешь бойца туда, откуда он может не вернуться. Так же, как и в первый раз, сжимается твоё сердце, будто отрывается.
Может быть, увидел ты деревянную Каменушку и жительницу этой Каменушки, которая вместо запятнанного окопной глиной письма получит коротенькую бумажку и забьётся в неутешном горе, запричитает громко, по-деревенски. И встанут около неё трое простоволосых ребятишек, которым и не понять сразу, отчего и почему гдето далеко-далеко послал на смерть их отца один человек и после победы отец не приедет с обещанными гостинцами В трубку было слышно, как шевельнулся лейтенант, кашлянул и твёрже произнёс: — Связь нужна!
Отключив аппарат, Матвей призадумался: смерть-то не тётка. Пошарил глазами вокруг себя, отыскивая место, по которому удобней пробраться к ручью. Метрах в двухстах от трубы росли низкие кусты ивняка, спускаясь к самой осоке, разросшейся по краям ручья. Ободряя себя, Матвей сказал: «Живём пока» — и пополз. Осторожно раздвинув осоку, Матвей оказался в грязном русле ручья.
Руки по локоть ушли в вязкий ил, ползти было трудно, но он упорно двигался к трубе, время от времени делая передышку и сплёвывая вонючую воду. Берег ручья и осока скрывали его от глаз снайпера, но Матвей боялся, чтобы тот не заметил провода, пригибающего осоку.
Вот и труба. Матвей ногами вперёд залез в неё. По дну бетонной трубы лениво сочилась струйка позеленевшей воды. Матвей, лёжа на животе, вывинтил из карабина шомпол и, пользуясь трещиной в трубе, загнул его крючком.
Полюбовавшись своей работой, он привязал крючок к проводу. Немного высунувшись, Матвей забросил шомпол на верх трубы и потянул. Что-то зацепилось. Он дёрнул посильней, крючок слетел, и несколько оборванных проводов повисло с края трубы. Дело идёт! Ещё разок! Чиркнула разрывная пуля Свой провод он сыскал сразу. Провод был трофейный, красный. Почему-то командир отделения связи обожал всё трофейное и постепенно заменил весь русский провод на катушках немецким и был этим весьма доволен.
Ну, конечно, его издаля видно. Ох уж этот сержант наш. Ему бы дерьмо, да чужое. Ну, погоди, выберусь отсюда, всю эту трофейщину к лешакам повыкидаю и сержанта отлаю. Рассуждая так, Матвей подключал соединённые концы к аппарату. Ну, ладно. Услышав, как лейтенант стал передавать координаты на «Москву», Матвей не стал громко ругаться, а потёр шишку и вполголоса запел, продолжая разбирать и зачищать провода: — Оте-е-ц мой был природный пахарь, И я рабо-отал вместе с ним Присоединив конец другого провода, он прижал плечом трубку к уху.
Женский усталый голос с тихой безнадёжностью звал: — «Луна» Как вы попали на нашу линию? Отключайтесь, не мешайте работать! Да не посылайте связистов к трубе — снайпер тут подкарауливает. Матвей присоединил провод и начал вызывать «Луну». Товарищ Савинцев? Матвей нажал клапан: — Ну я, чего ещё вам?
Чужую ведь линию вы зрастили и такую помогу нам зробыли Но вот все концы, попавшие Матвею на крючок, сращены. Снова ожили линии, пошла по ним работа. А Матвей томился от безделья, зная, что незаметно улизнуть ему отсюда не удастся. Лежать неудобно — под животом вода. Весь мокрый, грязный, смотрит он на край деревни, видимый. Горят дома. Пылища мешается с дымом. Наносит горелым хлебом.

Огороды сплошь испятнаны воронками. Сады перепоясаны окопами. И трубы, голые трубы всюду. А солнце печёт, и дышать трудно. Щекочет в ноздрях, душит в горле. Всё своё, всё, и за эту вот деревушку, как за родную Каменушку, душа болит.
Зачем её так? Зачем людей чужеземцы позорили? Что им тут надо?.. Он умел по звуку отличать полёт своих снарядов так же, как до войны определял на расстоянии рокот своего трактора.
На высоте, которую Матвею не было видно, часто затрещали пулемёты, рявкнули миномётные разрывы, захлопали гранаты Он взял трубку: — «Заря», как там у вас?
Вперёд наши пошли. Огневики что делают!