Владимир алейников режиссер
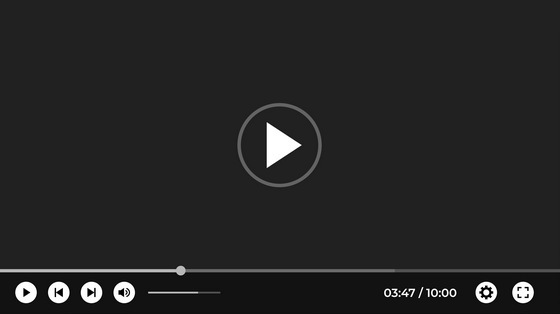
Надо заметить, что цена на буханку этого хлеба, в переводе на доллары, от одного доллара вскоре поднялась до двух. Великий художник. В доме было шаром покати.
Награды и звания. Владимир Алеников. Дата рождения: 7 августа, О ключевой его работе — «Облако-рай» — и режиссерских открытиях этого фильма рассказывает Владимир Алеников. Владимир Алеников : смотреть фильмы онлайн.
Лучшие фильмы, фото, интересные факты и биографию Владимир Алеников можно посмотреть на Иви. Оба фильма категорически запретили и положили на полку с грифом «Никогда и никому не показывать», — рассказывает режиссер Владимир Алеников. И вот к нему приезжает в гости Виталий Пацюков - мы с Виталием удивляемся нашим общим взглядам, интересам;главное, и решающее - Виталий тоже познакомился с Игорем Брилем в том же номере журнала "Кругозор" - вот тут я и поняла, что ожила.
Ну и еще наших два одинаковых ВУЗа Это уже мелочь. И Алейников читает стихи, и я начинаю их слышать И вдруг понимаю, что в них нет никакой "гражданской лирики", протеста Нет ничего, кроме цвета, дыхания. Импрессионизм композиции, метафора Ко мне приходит давно забытое чувство восторга, так было очень давно, когда я прочитала самиздатного Сашу Соколова " Школу для дураков".
Когда мы с ним разговаривали об источнике вдохновения, когда я сказала, что вижу в его картинах влияние иконописных школ, он не стал отрицать Только на вечере в AZ я, услышав, как Владимир читает прозу, я поняла и почувствовала ее - музыкальная монотонность, с сильными долями, паузами, мелодично Спрашиваю у В.
Пацюкова, похоже ли это на сказание? В очереди — за чем же? И куда? У края. Украинского края. На краю листа — как на краю столетия. Доля и воля. Есть ли поле — у памяти? Дружили мы столько лет, что оба давно поседели. И на всём протяжении этих лет, иногда невыносимо тяжёлых, иногда и с просветами, но всегда непростых, оставался он для меня человеком, который был для меня особенно дорог.
Мы постоянно с ним переписывались, оба — в охотку, не давая заглохнуть эпистолярному жанру. Мы довольно часто, насколько позволяли нам обстоятельства, но всегда — с пользой друг для друга, прежде всего — для души, для духовности, для обоюдной поддержки во времени, радостно, я сказал бы — и празднично, уж точно — никогда не буднично, не примитивно, а обязательно — с огнём, с добыванием этого огня, согревающего нас в потёмках эпохи, с поддерживанием этого огня, чтобы и впредь горел, с интересом и энтузиазмом, с остро прочувствованным участием в судьбах наших, его — в моей, моим — в его судьбе, разумеется, участием деликатным, с необременительными для нас обоих небольшими просьбами и поручениями, с тем мужским взаимопониманием, которое многое, особенно в молодости, значит, виделись с ним.
Я очень ему верил. Он был — все знали — порядочным человеком. Он был — знали все — человеком благородным.
Про таких говорили: не выдаст, не продаст. Сказал — сделал. Дал слово — сдержал его. В пушкинском смысле этого слова — друг. У него хранилось очень много моих самиздатовских текстов, рисунков, фотографий. Сдружившись с ним, я взял себе за правило: написав новые вещи — отдавать ему. Отдавал рукописи. Отдавал машинописные перепечатки, самодельные свои сборники, иногда сброшюрованные, а порой — просто сложенные стопкой листочки.
Отдавал — потому что было у него понимание моих писаний. Знал: у него — сохранится. Сам я — терял в прежние годы многое. Но вот что поразительно: письма его ко мне — все целы. Но так ли это? Зато все остальные, начиная с семидесятых, — это уж точно, целы.
Все они, эти письма, целы, все они — у меня.

Приблизительность и поверхностность совершенно нам ни к чему — оба мы тяготеем к точности изъяснения. В январе восемьдесят шестого — письмо от Рубиных — мне: — Наш дорогой и великий друг! Поздравляем тебя с днём рождения. Шлём тебе в этот день нашу любовь, наше тепло, радость быть с тобой, даже писать тебе, гордость от сознания дружбы с тобой.
Какое счастье знать тебя, человека, в котором самым счастливым образом соединились великий талант, доброта и великая терпимость, душевная щедрость, поразительная открытость и расположенность к людям. Дай тебе Бог, дай тебе Бог! Да хранит Он тебя для нас, для всех любящих тебя.
Обнимаем тебя, дорогой наш. Наши поздравления Люде — с именинником. По старым еврейским законам, по которым у мужчины совершеннолетие наступает в тринадцать лет, ты уже трижды совершеннолетен — что вполне соответствует прожитой тобой жизни. Оля и Эдик. В Киеве появилась «Прима» — на днях вышлю. Но вот уже четверть века да больше уже! Только Владимир Алейников — это не эмоции мои, а глубокое убеждение.
Таких я еще не знал — по трагичности и пронзительности. И всё же, несмотря на гениальность этих стихов, несомненно отражающих душевный строй определённого жизненного периода, молю Бога, чтобы этот период миновал. Ты так заслуживаешь мира и покоя. Но вдобавок ко всему этому был он ещё и тонким, редкостным знатоком поэзии, действительно знал литературу, прекрасно разбирался в живописи, в музыке, вообще был всесторонне, широко, очень хорошо образован.
И я, видевший, как с годами жизнь его всё упорядочивается, всё улучшается, искренне радовавшийся тому, что образ его становится для меня всё значительнее, тому, что с возрастом высветляются лучшие свойства его души, не мог себе представить Киев — без него. Вернее всех обычая этого держался Леонид Коныхов, в новогоднюю ночь непременно читал новый рассказ. Ну а над тем рассказом, о котором речь впереди, он работал долго.
Рассказ тот был о Владимире Алейникове, о поре его юности, бездомности, о трудной его поре, ну и главное — это была попытка напрямую связать поэзию с событиями жизни поэта. И вот — вдруг — под самый Новый год, на его встречу, к нам в Киев приехал сам Володя, и смущённый Лёня решил при Володе рассказ не читать. Оно и понятно — герой рассказа, по сути своей, трагедийного, сидит тут же: не читать же ему про него самого.
Однако всё сложилось удачно. После того, как всё новогоднее питьё было неожиданно быстро выпито, кто-то вспомнил, что дома у него есть пятнадцатилитровая бутыль домашнего вина. Поехали и привезли. В дверях бутыль была встречена Володей, он обнял её нежно, бережно отнёс на кухню и почал… Через час он благополучно заснул в углу комнаты, он так уютно спал среди музыки и шумного веселья.
И сообразили, что рассказ об Алейникове можно читать, ибо Алейникова здесь уже как бы и нет — герой рассказа спит надёжно. И Лёня вынул из стола листы, и стал читать, сперва с некоторым смущением хоть Алейникова вроде нет, но однако вот он, с нами , но потом пошло, тем более, что рассказ своим напряжением затягивал, увлекал.
Лёня закончил чтение. Все молчали. И вдруг лежащий на боку Володя заговорил. Не открывая глаз, не изменяя выражения спящего лица. Он говорил медленно и, помнится мне, немного торжественно. Но, — продолжал Володя, — видишь ли, Лёня, дело в том, что я — мистический поэт». И далее, всё так же, с закрытыми глазами, лёжа на боку, он рассказал Лёне и нам, в чём сила и слабость этого рассказа.
Он рассказывал о поэзии и как о ней следует писать. Это был потрясающий анализ слышанного рассказа, слышанного до мелочей. Сказав всё, всё так же лёжа на боку, Володя снова заснул. Впрочем, может быть, он и не просыпался? И вспомнилось вот что.
Как-то при мне к Володе пришёл Генрих Сапгир. Он вынул листы со стихами и сказал приблизительно следующее: «Володя, я хотел бы, чтобы ты послушал это. Я ведь знаю, что у тебя за этим ухом есть ещё одно ухо — вот интересно, как оно это воспримет».
Сапгир — умница. Может быть, он-то и назвал тот незримый слуховой орган Алейникова? Но вот Эдик уехал. Вместе со своей женой Олей, художницей, славной художницей, оформлявшей книги для детей, своей верной спутницей и задушевной собеседницей, замечательной, умной женщиной, в повседневной жизни вроде и сдержанной, но и порывистой, впечатлительной, восприимчивой к проявлениям красоты до мгновенных слёз, печальницей, мечтательницей, скромницей, светлым Ангелом его, доброй феей.
Вместе с мамой, тётей, тёщей — так говорили. Вместе со своей библиотекой и, своим архивом — то есть с говорящими ему о многом крупицами, частицами его киевской жизни, его быта и его духа, его здешнего бытия.
И с тех пор ничего я о нём толком не знаю. Ни единой весточки не было от него за восемь долгих лет, ни полслова. Что стряслось? Кто-то из общих наших знакомых слышал от кого-то когда-то, что, вроде бы, Эдик серьёзно болел. Всё могло быть.
Всё очень даже могло быть. Но его молчание — резануло меня по живому. Я не понимаю, до меня не доходит, почему это так — столькое вместе пережить, дружить так вдохновенно, будто на дворе не конец двадцатого века, а первая треть девятнадцатого столетия, с её пушкинским пониманием дружбы, — и вдруг разом всё оборвать.
Нет, что-то здесь не то. Так не бывает. Так просто быть не могло. Верный давнему своему принципу — никому никогда не навязываться, — все эти годы я просто жду: пусть напишет. При желании несложно, наверное, мне — узнать его адрес. Но он-то мой адрес — знает! И однажды — ах, это «однажды»! Там, вдали от меня и от Киева, в своей тёплой, очень уютной, с высоченными пальмами, чудными пляжами, с бесконечно и праздно цветущими пышнотелыми розами, с разморёнными, вьющимися, кудреватыми лозами, с небесами лазурными, с зеленью пряною, с небывалыми звёздами прямо над самой твоей головой, как при входе в Эдем, и удобной для жизни, с коттеджами, с непременным домашним комфортом, с магазинами, полными яств, с чистотой на ухоженных улицах и порядком везде и во всём, обретённой не так уж давно, благодатной стране, — Эдик шёл, духовной жаждою томим, что случается порой не только с ним, пусть он с виду и солидный господин, — и зашёл в знакомый книжный магазин — и увидел там — стоявшую на полке, столь знакомую ему, сокровенную мою, одинокую — «Звезду островитян».
В этой книге, вернее — в восьми книгах, образующих этот том стихов, есть немало обращенных к нему и посвящённых ему стихотворений. В частности, посвящённая им обоим, Эдику и Оле, довольно большая композиция — «Плач по музыке».
Помню, девятнадцать лет назад я спросил Эдика, что он думает об этой вещи. На что Эдик, порывисто и вдохновенно подняв своё узкое, со светлыми, полными неугасающего света, глазами, обрамлённое седеющими волосами и небольшой, аккуратной, тоже с заметной сединой, бородкой, бледное, но уже чуть затронутое лёгким загаром, лицо, сказал: — Это не просто выдающаяся, это — эпохальная вещь! И, хотя категоричность его суждения меня, как всегда, немножко смутила, но услышать такое именно от него было мне и приятно, и важно.
Все составившие «Звезду островитян» тексты, с семьдесят девятого по восемьдесят восьмой год, он получал, по мере их написания, читал и хранил в самиздатовском своём собрании. Позже, когда книга была издана, я сразу же подарил её — с дружеской, разумеется, надписью — ему, своему другу. Из Киева, как уже говорилось, он увёз все бумаги и книги с собой. А я, его друг, — остался.
И — надо же — такая вот встреча. Да это, ведь всё равно что меня самого увидеть, так я считаю. Что всколыхнулось в его душе? Он незамедлительно купил книгу. Что побудило его поступить так? Да просто он тоже был — здесь, у нас, на покинутой им родине, — человеком самиздата. Огромная полоса его жизни теснейшим образом была связана с самиздатовской деятельностью. Забыть такое — невозможно. Метаморфозы, происходящие с бывшими самиздатовскими материалами, которые имелись у всех нас, так сказать, для внутреннего, внутри нашего круга, ограждённого, по возможности, от вторжений извне, от всяких нежелательных историй, способных нарушить выработанные ритмы и привычки, элитарного, одновременно и личного и общекомпанейского чтения, само это запоздалое, но всё равно чудесное превращение самиздатовской, машинописной, читанной-перечитанной, затверженной наизусть, домашней книги — в изданную типографским способом, наверное, никогда не перестанет изумлять всех нас, ветеранов этого движения, всех нас, прошедших суровую школу самиздата, славно потрудившихся в своё время — на поприще — на поле — самиздата.
И Эдик просто не мог удержаться. Душа встрепенулась — так я это объясняю себе. Ему позарез надо было подержать в руках — определить бы это поточнее, подоходчивее — вещественное воплощение, вещественное доказательство, непреложное свидетельство наших былых деяний. Более того, ему важно было, очень важно, чтобы это материализовавшееся веяние дорогого для него минувшего оказалось именно у него, только у него, вновь у него, а не у кого-нибудь другого, пусть и распрекрасного, пусть и любящего, даже очень любящего поэзию человека, но — чужого, не нашего, не из нашего круга, не бывавшего в те, минувшие, годы там, с нами, не прошедшего — школу, не знававшего — поля, поприща, небывалого взлёта, магнетизма, силового воздействия, тяготения, торжества самиздата, словом, оказалась у него — и немедленно.
И я очень хорошо его понимаю. Откликнись, Эдик! Второго августа тебе — шестьдесят. Говорят: круглая дата.
И тут опять что-то со мной произошло, — прямо как в случае с Марией Николаевной Изергиной, о чём я уже говорил. Вдруг я понял, обострённо, отчётливо, ясно, ясней не бывает, понял — сердцем, понял — чутьём, что сегодня — именно второе августа. Второе августа девяносто девятого года — и никакое другое. Я поднялся из-за стола и для пущей убедительности посмотрел на часы. На круглом, старом, но продолжающем упрямо тикать, продолжающем работать будильнике стрелки показывали ровно половину второго ночи.
Ну конечно, писал-то я весь день, и вечером, и за полночь, и было это первое число, самое начало августа. А теперь — ну точно, второе августа началось. И ум за разум у меня вовсе не заходит. Просто, когда я интенсивно работаю, время идёт по-другому, оно раздвигается, давая возможность мне двигаться в нём посвободнеее. Нет, братцы мои, не случайны, далеко не случайны — такие вот, одно за другим набегающие, совпадения. Ну ещё бы! Второе августа. День Перуна — у предков моих. Выдыбай, Боже!.. Как самиздатовские тексты — из бездны советской, минувшей, но памятной жизни, жизни-реки, жизни-речи, жизни-дружбы, жизни, неопровержимо доказывающей, что мы — есть.
Выдыбающие — мы живы. Мы, конечно же, — выдыбающие. Восстающие из пучины. Высевающие — семена. Только где же? В поле. Самиздатовские семена.
Для кого? Для тех, кто в грядущем. Ну а мы-то сами — где? Воспевающие — что? Выбирающие — что? На котором — что? Две руки. А за ними — что? Две реки. Две реки земных, две реки, две небесных — Доля и Воля. Дорогой, дорогой мой друже, дорогой и давний к тому же!
Поздравляю тебя с днём рожденья. В нём — души твоей утвержденье о грядущем, в котором встрече — быть, хоть сам ты сейчас далече.
С днём рождения, с юбилеем. Выдыбаем, Лев с Водолеем! Есть у меня в Петербурге старинный друг. Володя Бродянский. Владимир Янович. В прежние годы — режиссёр. Очень хороший, как все считали, режиссёр. После окончания театрального института он уехал в Лодейное Поле — и создал там, на отшибе, в провинции, детский театр.
Замечательный получился у него театр. Дети у него не просто играли, будто в игру играли, — нет, они жили театром, жили каждым спектаклем, жили — идеей, жили — воплощением на сцене Володиных замыслов, жили — духом Театра. Вскоре слух о небывалом детском театре прошёл по городам и весям. Начались гастроли. Пришла известность. Но Володю эта известность — вроде как и не затронула.
Оставался он самим собою — то есть чудесным, воспитанным, обаятельным, умным, талантливым человеком. Разумеется, она была права. После жизни в Лодейном Поле вернулся Володя в Питер, стал руководить университетским театром. И тоже добился вскоре немалых успехов. Пошёл работать дворником. Да ещё, чтобы зарабатывать побольше, трудился сразу в двух-трёх местах.
Он ходил по питерским улицам с метлой и лопатой — и работал увлечённо, с подъёмом, талантливо, — он всё, за что ни брался, так делал, хорошо, на совесть. Работая питерским дворником, Володя стал закаляться.
У него был врождённый порок сердца. Володя ходил зимой раздетым по пояс, обтирался снегом, а потом стал и в Неве в зимнюю пору купаться, моржевать.
И действительно закалился. Порок сердца бесследно исчез. У Володи было несколько детей. Всех их следовало кормить, воспитывать.
Что он и делал. Помню его отца, тихого, седого, хворающего. Помню маму его, Галину Владимировну, чудесную женщину, с той питерской отзывчивостью, с той добротой, с тем вниманием к людям, которые раньше у ленинградцев были сами собою разумеющимися и всегда отличали их от жителей прочих городов.
Помню их квартиру — вернее, две комнаты в коммуналке, в самом центре, на углу улицы Герцена и улицы Подбельского, в угловом, само собой, доме.
Вход со двора. Подняться по лестнице. Длинный общий коридор. Более-менее нормальные соседи. Опять-таки в углу, сбоку, — две комнаты Бродянских. Небольшие, но площади, по питерским нормам, вполне достаточно. Комнаты эти были заполнены книгами.
Володя был страстным книгочеем, это вообще было одним из его призваний. Другим была — режиссура, а ещё — актёрство, а ещё — дружба.
И много чего ещё. Володя, по своим, конечно, возможностям, собирал современную, запретную, живопись и графику. Был в его собрании Шемякин, были Боря Козлов, Игорь Ворошилов, ещё кто-то, не так уж и много картинок.
Но книг — было действительно много. По тем временам это впечатляло. Володя их любовно, бережно хранил, читал, перечитывал, в меру своих возможностей пополнял библиотеку.

И ещё было у Бродянского — замечательное собрание самиздатовских текстов. У него хранилось множество моих рукописей, самодельных моих книжек, просто машинописных перепечаток отдельных вещей и циклов, полным-полно моих рисунков, цветных картинок и всего прочего, хоть каким-то образом связанного со мною.
А надо сказать, что Володя меня, как поэта, любил и очень высоко ставил. В поэзии он, слава Богу, разбирался. Володя часто бывал в Москве, да и учился там в шестидесятых. Мы постоянно виделись с ним. И в Питер я к нему наезжал. Дружба у нас была особенная, с абсолютным взаимным доверием. Как-то в Москве, году в шестьдесят шестом, в одной компании, после чтения стихов, после выпивки, начались разговоры, пересуды всякие, доморощенные литературные споры.
И московские пишущие оглоеды возбудились, даже взвинтились, и давай склонять на все лады: — Бродский!.. И тому подобное. Володя Бродянский слушал их слушал — и постепенно мрачнел.
А потом встал и сказал, обращаясь ко всем присутствующим: — Ну чего вы здесь расшумелись? Понимать поэзию надо, а не идти на поводу у «общественного мнения». Бродский — есть, конечно, ну и ладно. Володя Алейников пишет намного лучше Бродского. Что тут началось! Бродянского чуть ли не за грудки хватать стали: — Да ты!.. И прочее, в таком же роде. А он — всё так же, невозмутимо, отчетливо, — им: — Я знаю, что говорю!
Московские оглоеды чуть ли не на стену лезть начали.

Очень их это поразило. Соль этой сцены заключалась в том, что я находился здесь же, поскольку и пришли мы сюда вдвоём с Володей, и всё, естественно, видел и слышал. Бушуют оглоеды.
Руками потрясают. С театральным пафосом. Воздух сотрясают, и так спёртый от табачного дыма и перегарного, винного запаса. А Володя им — ещё спокойнее, весомо, с достоинством: — Все вы ещё вспомните мои слова! Пришлось оглоедам поневоле призадуматься.
К тому же и выпивка у них закончилась, а денег, чтобы сбегать, купить и добавить, ни у кого уже не было. Он был тоже — отчасти маг. Он был сам — театр. Он, бывало, ставил и играл свои импровизированные спектакли, — так вот, вдруг, по вдохновению, — где угодно, хоть на улице. Ему нравились зрелища.
Но был он чрезвычайно скромен. И часто, с годами всё больше и больше, как-то уходил в себя, замыкался в себе и никого, даже друзей, туда не допускал. Чтобы не огорчать людей, прежде всего. Чтобы не озадачивать.